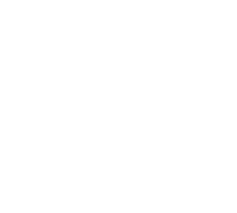Загадка бессознательного
Эдгар Левенсон, Доктор Медицины
(2001). Современный Психоанализ, (37)(2):239-252
(2001). Современный Психоанализ, (37)(2):239-252
«Мы не знаем, кто открыл воду, но мы знаем, что это была не рыба»
Маршалл Маклюэн сказал: «Мы не знаем, кто открыл воду, но мы знаем, что это была не рыба». Вот эту сторону психоанализа я и хочу рассмотреть — не аналитика, ищущего неизменную, вневременную Истину, а аналитика, погруженного в свой мир и измененного этим миром.
Следствием может стать не то, что мы будем проводить терапию по-другому, а то, что мы можем по-другому концептуализировать то, что мы делаем, и, возможно, даже осознать, что делаем что-то, что до сих пор осуществляли совершенно не осознавая.
Говорят, что психоаналитики страдают от «зависти к физике». Нам очень бы хотелось быть научными, провозглашать вечные принципы и истины. Мы никогда не были довольны идеей, что наши хваленые теоретические открытия отражают более масштабные социокультурные сдвиги, являющиеся частью того, что Кун (1962) назвал парадигмой времени. В дзэн говорят, чтобы увидеть рыбу, нужно смотреть на воду. Мы не отличны, нас несет река перемен, и эта перемена явно ведет к новому интересу к природе сознания, интересу гораздо более повсеместному, чем интерес только к психоанализу. Как выразился Макгинн (1999a): «Я считаю, что новый интерес к сознанию представляет собой следующую большую фазу в человеческом размышлении о мире природы, такую же большую, как решимость понять физический мир, которая набирала силу в семнадцатом веке» (1999а). (р. 46).
Для психоаналитиков двадцатый век начался с фрейдовской конструкции «динамического» бессознательного и закончился появлением радикально иной концепции «включающего» бессознательного современной когнитивной науки. Это часть более глубокого сдвига парадигмы, который охватывает не только «Бессознательное», но и изменение восприятия самого сознания, уходящее своими корнями в дихотомию разум-мозг — само отношение мысли к ее органическому субстрату, мозгу. Сознание, ранее считавшееся «призраком в машине», дискредитированным картезианским похмельем, вновь становится центральным вопросом философии двадцать первого века. Метапсихология, наше любимое тщеславие, наш поиск ясности мотивации и причинности — я подозреваю, что это картезианский анахронизм — заменяется новым интересом к гораздо более хаотичной проблеме феноменологии сознания и ее применения в терапевтической практике. Мы, кажется, ставили Декарта впереди лошади!
Природа сознания горячо обсуждается в практически средневековом сектантстве среди менталистов, функционалистов, материалистов и мистерианцев (Damasio, 1994). Достаточно сказать, что дискуссия сосредоточена на том, является ли сознание просто эпифеномоном мозга — неизбежным результатом органической сложности — или же оно имеет совершенно иную сущность. (См. Chalmers, 1996, и Searle, 1997, обсуждение веры в принципиально нередуцируемое сознание.) Сознание, как говорит Дамасио, является «последней великой загадкой, которая может привести нас к изменению нашего взгляда на вселенную, в которой мы живем» (р. 21).
Так что я могу говорить одновременно о столетнем и тысячелетнем сдвиге парадигмы. В 1972 году я предположил, что наша научная парадигма (более всеобъемлющая и убедительная, чем метафора) отражает нашу важную технологию: например, Фрейд отражал энергетическую систему паровых машин своего времени; Салливан, связующее звено систем связи; совсем недавно утвердилось то, что я назвал «организмическими» концепциями (Levenson, 1972). Не будет большим шагом предположить, что со взрывным ростом компьютерных технологий у нас вскоре появятся машины, способные дублировать ментальную сложность. Будут ли они тогда думать? И, если они думают, будут ли они испытывать сознание? Это, конечно, один из центральных споров в «Искусственном интеллекте». Во всяком случае, они изменят наше мышление. Как я уточню позже, я считаю, что компьютеры могут предвещать новый сдвиг парадигмы к чему-то, напоминающему концепцию «гиперпространства» в компьютерных технологиях, радикально изменяя то, как мы концептуализируем психоаналитический процесс.
Психоанализ находится в большом движении. Психоаналитики все больше интересуются менее традиционными параметрами лечения. Но есть определенное концептуальное отставание. Мы все еще спорим о метапсихологиях, объяснительных метафорах, хотя время для этого, возможно, уже прошло. Конечно, к настоящему времени мы должны признать, что, несмотря на все наши дебаты о гегемонии нашей конкретной позиции над всеми остальными, мы, весьма вероятно, все делаем одно и то же, разделяя одну и ту же практику, хотя и используя разные объяснительные наборы. Вместо застарелого платоновско-картезианского тщеславия, что знать означает действовать:
«Я мыслю, следовательно, я могу»,
здесь может возникнуть вопрос: как можно чему-то научиться у кого-то? Проблема для нас может состоять в том, чтобы попытаться понять феноменологию того, что мы делаем, когда делаем то, что знаем, как делать. Другими словами, мы все можем быть вовлечены в терапевтический процесс, который лишь отдаленно представлен нашей метапсихологией.
Я полагаю, что мы выходим за рамки наших доктринерских дебатов об интерпретационных установках — эдипальной, доэдипальной, самости, фрейдистской, реляционной, межличностной, объектно-реляционной, — которые увязли в наших исследованиях в непроглядных гаванях догмы. Во всех этих объяснительных наборах имплицитно заложена идея о том, что озарение важнее изменения, что было названо «заблуждением Румпельштильцхена». Румпельштильцхен, как вы помните, был злым карликом из сказки, который взорвался — если хотите, деконструированный — когда его имя стало известно. Следовательно, именование — мутативная интерпретация — ведет к изменению. Как я уточню позже, то, что мы говорим или делаем (почти одно и то же), не имеет прямой связи с тем, что следует в результате. Мы вовлечены, как сказал Витгенштейн, в путаницу причин и оснований (Heaton, 2000, р. 52).
Однако если мы можем согласиться с тем, что все мы подключаемся к творческому, связному, хотя и в значительной степени неосознаваемому процессу, происходящему между аналитиком и пациентом, которому мы пытаемся способствовать, отслеживая и проясняя свое собственное участие — независимо от того, мы открыто проявляем наше осознание в психоаналитическом обмене — тогда мы все проводим полностью современный психоанализ. Мы не лечим; мы делаем свою работу и происходит излечение. Мы можем провести следующее тысячелетие, счастливо выясняя, как это может произойти.
Путаница заключается в том, как мы используем термин «сознание», поскольку мы отождествляем его с «осознанием» или с «умом». Мы не рассматриваем возможность бессознательного сознания. Слова, случайно используемые в качестве синонимов, часто имеют разные этимологические корни и несут, хотя и слабо, сильно расходящиеся концептуальные наборы из далекого прошлого. (Подробное описание разницы между аутентичностью и искренностью см. в Levenson, 1974.) «Сознание» происходит от латинского корня con siere, «знать с помощью», быть способным комплексно реагировать на окружающую среду. Осознание происходит от древнеанглийского корня, означающего «обращаться». Я бы сказал, что сознание не тождественно самосознанию или самоосознание. Можно иметь сложные интерсубъективные переживания, не размышляя над ними. Наше рефлексивное смешение осознания и сознания в значительной степени является рудиментарным, наследием первой топографической модели Фрейда (бессознательное, предсознательное, сознательное), которая объединяла сознание и восприятие (Laplanche & Pontalis, 1973, р. 84-85). Конечно, более поздние разработки в психологии эго постулировали «бесконфликтные сферы», и современная теория Фрейда признает эту дилемму.
Тем не менее, эта пространственная метафора с тех пор не дает покоя психоанализу. Мы не можем не думать о «сознательном», «бессознательном», «межличностном» и «интрапсихическом» как о сферах, пространствах, которые нужно наполнить содержанием. И снова Витгенштейн:
Мы ищем проблемное «пространство», и понимание — это наша награда за настойчивость. Метафора поиска обладает многими атрибутами поиска в физическом пространстве, поэтому ее изображают происходящей в концептуальном или ментальном пространстве — человек ищет в своем уме! (Heaton, 2000, p. 18)
Сравните определение Фрейдом (1895 г.) осознания и сознания с описанием Уильяма Джеймса (1890 г.) «потока сознания»:
Наше обычное бодрствующее сознание, рациональное сознание, как мы его называем, есть лишь один особый вид сознания, в то время как вокруг него, отделенные от него тончайшими экранами, лежат потенциальные формы сознания, совершенно иные. Мы можем прожить жизнь, не подозревая об их существовании; но примените необходимый стимул, и при прикосновении они будут здесь во всей своей полноте... Никакое описание вселенной в ее тотальности не может быть окончательным, если эти другие формы сознания полностью игнорируются. Как относиться к ним, вот в чем вопрос, ибо они так прерывны с обыденным сознанием. Тем не менее, они могут определять отношения, хотя и не могут дать формул, и могут открыть регион, хотя и не могут дать карту. (р. 224-290)
Рассмотрим далее концепции другого современника и знакомого Фрейда, выдающегося невролога Хьюлингса Джексона. Джексон говорил о «сонном состоянии», разобщении сознания, диссоциации, которое имеет место при некоторых формах «джексоновской» эпилепсии. Он описывает врача, который, собираясь осмотреть пациента, чувствует приближение припадка. «Очнувшись» через некоторое время, он обнаруживает, что осмотрел больного, поставил диагноз, обсудил его с семьей больного, забрал гонорар и отправил больного на больничную койку. Никто не заметил в его поведении ничего странного или необычного. (См. Meares, 1999, где подробно обсуждается отношение Джексона к психоаналитическому мышлению.) Это не ретроградная амнезия большой эпилепсии, так как у него был припадок во время соответствующего выступления. Ясно, что он был в каком-то смысле в полном сознании, хотя и без сознания. Я не думаю, что это можно считать диссоциацией, психологическим механизмом, потому что амнезия является неотъемлемой частью синдрома, отражающей очаговую мозговую активность.
Следует отметить, что в обширной современной литературе по разуму-мозгу и сознанию только Макгинн и Дорпат прямо ссылаются на бессознательное измерение сознания (Bargh & Chatrand, 1999; Chalmers, 1995, 1996; Dennett, 1991; Dorpat & Miller, 1992; Ellenberger, 1970; Horgan, 1996; Meltzoff & Gopnick, 1993; Searle, 1997; Stone, 1997). «Сознание, — говорит Макгинн (1999b), — имеет скрытую структуру, тайную изнанку, скрытую сущность» (р. 140). Мне кажется необычным, что столь легкомысленное предположение о том, что чувствительность, осознание и сознание родственны, так широко распространено.
Прежде чем я попытаюсь разобраться во всем этом подробно, позвольте мне привести вам клинический пример, чтобы продемонстрировать, как полученные данные подтверждают мои мысли. Далее я попытаюсь разобрать теоретические следствия такого взгляда на психоаналитическую практику. Как показывает мой клинический материал, иногда осознание продуцируется пациентом, иногда терапевтом. У человека возникает странное ощущение, как будто попадаешь в мощный поток, и тебя несет река, иногда над поверхностью, иногда под ней, иногда через пороги, иногда спокойно, но этот опыт никогда не является обособленным. Когда изменения наступают, происходит ли это благодаря прозрению, осознанию собственного участия, изменению своего участия или, возможно, бессознательной проработке, в которой сознательное восприятие является лишь верхушкой?
Это краткий и, в конечном счете, вероятно, неудовлетворительный клинический пример, потому что он не иллюстрирует четкого линейного перехода от данных к теории и к лечению. Этот молодой человек, концертирующий скрипач, видит во сне, что ему подарили два билета на концерт. Один - брауни, другой - тутовый пирог. Он встречает дядю-холостяка, который спрашивает его, как найти «вестчестерскую шлюху» (это игра на тему «пирожка»?). Затем он возвращается в квартиру своей матери. Из душного туалета выскакивает большой черный мужчина, голый, гей, которого он знает. Особой опасности он не чувствует.
Я спрашиваю его о гомосексуальных тревогах. Да, он опасается, что у него могут быть тайные гомосексуальные желания, но у него нет опыта, он не осознает интереса к мужчинам; действительно, его возбуждают женщины (он помолвлен). Я спрашиваю о пироге «тутовый» — он никогда о таком не слышал. У его деда, который жил в Вестчестере, во дворе росло шелковичное дерево. Собирали ягоды в корзинку и ели (шелковица крупная, беловатая). На своем первом сеансе терапии он неожиданно расплакался, когда упомянул своего дедушку. Он любил его безмерно и оплакивал его смерть несколько лет назад. Приставал ли дедушка когда-нибудь к нему? Нет, но иногда они спали в одной постели.
Вы заметите, что ничего не становится яснее, но есть своего рода «гипертекстовый» прыжок — гипертекст — это маленькая рука на вашем компьютере, которая предвещает прыжок в другое звено в гиперпространстве — от одной темы к другой: из прошлого, в настоящее, к мечтам, к фантазиям, к переносу (к терапевту как гомосексуальному нападающему или любящему дедушке), к «пирогам – шлюхам», к «гомосексуалистам в туалете» — ряд антитез и каламбуров. Брауни коричневые, а шелковица белая, старый деревенский американец? Я живу в Вестчестере. Более того, я только недавно узнал, как тутовые кусты попали в Вестчестер (неудача шелковой промышленности). Если верить культурному бессознательному, то вспоминается «вокруг тутового куста» (это древний напев о чуме).
Почему это дискурсивное исследование должно иметь какое-то терапевтическое значение? Где и как сливаются эти биты информации? То, что мы определяем как сознательный дискурс, явно является лишь малой частью всепроникающего джеймсовского потока сознания, который охватывает не только данные анализа, но и непрерывное, постоянное, бесшовное взаимодействие-разыгрывание, которое переплетается с осознанием и выходит из него. Я наткнулся на эту чудесную иллюстративную цитату из Hadas (1999).
В «Структуре Неистового Орландо»… Кальвино вспоминает то, что он воспринимает как «творческий метод Ариосто… это расширение изнутри, с эпизодами, прорастающими из других эпизодов, порождающими новые симметрии и контрасты… это стихотворение с его полицентрической, синхронной структурой, эпизоды которой расходятся по спирали во всех направлениях, постоянно пересекаясь и разветвляясь друг от друга». Эти строки, написанные в 1974 году... могут выглядеть в 1999 году так, как будто они предвосхищают гипертекст, полицентрический, синхронный мир Сети. (р. 139)
Как я уже сказал, переформулировка всего этого требует радикального изменения нашей концепции бессознательного. Я бы сказал, что Фрейд начал с наивного (т. е. несформулированного) интереса к феноменологии сознания, возникшей из его работы с истерией и гипнозом (Levenson, 1996). Именно в клинике Шарко в Сальпетриере Фрейд обнаружил, как он позже сообщил в своей автобиографии, что «я получил глубочайшее впечатление о возможности существования мощных психических процессов, которые, тем не менее, остаются скрытыми от человеческого сознания» (Freud, 1925, р. 17).
При повторном прочтении «Исследований истерии» (Freud & Breuer, 1895) становится очевидным самое раннее увлечение Фрейда феноменом бессознательного мышления: как пациенты под гипнозом могли вспомнить события, которые не осознавались, и как содержание гипнотических сеансов было «забыто» в бодрствующем состоянии, но могло быть вызвано с неповрежденной непрерывностью в следующем гипнотическом сеансе. Фрейд предположил, что бессознательное мышление — это мышление, оттесненное под сознание или за его пределы. Этот взгляд был коррелятом его современной неврологии.
Знаменитый «Проект научной психологии» Фрейда отражал то, что мы сейчас называем теорией эволюции мозга Папеса-Маклина (Hampden-Turner, 1981), которая в конце 1800-х годов зависела от концепции Хьюлинга Джексона (1884) о функциональных уровнях мозга, согласно которому происходит расслоение неврологического функционирования. Каждый слой подавляет и сглаживает слой под ним. Например, неврологическим трюизмом было то, что кора сглаживала функции мозжечка: если кора разрушалась, мозжечок «вставал» и у больного возникал типичный мозжечковый интенционный тремор. Таким образом, кора рассматривалась как подавляющая более примитивные части мозга. Таким образом, был сделан небольшой шаг к тому, чтобы приписать коре головного мозга репрессивную психологическую функцию, удерживающую от сознания нежелательный, вызывающий тревогу материал.
Несмотря на попытки Фрейда установить топологию бессознательного, у нас действительно нет ни малейшего представления о том, как что-либо остается в сознании или вне его. Как выразился Джонатан Миллер (1995), «мы — невольные бенефициары разума, который, в некотором смысле, лишь частично принадлежит нам». Ужасно важно понять, что все мы некритически принимаем предпосылку о том, что осознание вещей является vis a tergo терапии. Как выразился Миллер, сравнивая фрейдистское бессознательное с тем, что он называл «поддерживающим бессознательным».
В психоаналитической теории Бессознательное осуществляет почти исключительно оградительную функцию, активно препятствуя доступу своего ментального содержания к осознанию. Посредством вытеснения, которое Фрейд определял как сурового представителя общества в психике, индивидуум освобождается от мыслей, которые, если бы они были осознанно пережиты, могли бы поставить под угрозу искреннее сотрудничество в социальной жизни. (р. 65)
Мы переходим к более целостной концепции функционирования мозга. В бессознательном, как многие из нас теперь верят, происходит почти все. Сознание становится эпифеноменом, пузырем осознания.
Для Фрейда содержание было отодвинуто вниз, удержано вне сознания[1]. Для так называемых ученых-когнитивистов сознание — в его обычном понимании — это просто выборочное осознание бессознательного функционирования, вытянутое в осознание. Это правда, что вещи могут оставаться вне сознания с помощью «избирательного невнимания» или, что еще сильнее, вытеснения. Но оба вида деятельности требуют, как указывал Сартр (1956), тщательно продуманного бессознательного восприятия и стратегии, предотвращающей появление в осознании, а не вытеснения из сознания. Я понимаю, что это значительное упрощение, но я пытаюсь очертить парадигматическое различие.
Когнитивная наука — это научная дисциплина, изучающая концептуальные системы. Основанная в 1970-х годах, она, по словам Лакоффа и Джонсона (1999), сделала «поразительные открытия». Процитируем: «Большинство мыслей бессознательны, но не в фрейдистском смысле вытеснения, а в том смысле, что они действуют ниже уровня когнитивного осознания, недоступны сознанию и действуют слишком быстро, чтобы на них можно было сфокусироваться» (р. 10). Большая часть того, что происходит, бессознательно, спроектировано и предназначено для того, чтобы оставаться вне сознания, и является сложным когнитивным процессом. Я должен повторить, что мышление и традиционное сознание не обязательно совпадают.
Вспомните поучительную историю о многоножке, которая споткнулась о свои же ноги, когда она начала думать о том, как ей ходить. Концепция бессознательной грамматики Хомского — еще один пример сложного мышления, которое не только действует полностью вне сознания, но и недоступно для сознания. Как выразился Поланьи (1958): «Мы можем знать больше, чем можем сказать, и мы ничего не можем сказать, не полагаясь на наше осознание того, что мы, возможно, не в состоянии сказать. Возможно, как предлагает Хайек (1978), нам следует называть эти процессы «сверхсознательными», потому что они управляют сознательными процессами, не проявляясь в них». Аналитики склонны считать осознанность высшим состоянием; то есть мы не думаем о рефлексивности или бессознательности как о возможных преимуществах — что, возможно, осознание или самосознание мешают или недоступны для определенных необходимых мыслей, а не только предположительно «бесконфликтных».
Мы действительно не знаем, как работает сознание, как оно думает. У нас нет удовлетворительной теории разума. Мы не понимаем, как мы переходим от собственного опыта к формулированию этого опыта, как мы усваиваем и понимаем опыт Другого и как наше общение касательного того, что, как мы верим, мы знаем, влияют на Другого. Основываясь на логических выводах мы знаем, что оно не следует исключенному среднему принципу (вещь есть или нет) аристотелевской логики. Казалось бы, во всяком случае, это ближе к парадоксальному мышлению Талмуда, в котором вещь может быть и не быть одновременно. Сознательное мышление следует правилам греческой логики — дедукции, категоризации, умозаключениям — нашему западному культурному наследию. Напротив, бессознательное мышление кажется более близким к свободному гипертекстовому смыслу Мишны, где слова и концепции раскрываются до их самых неожиданных значений. Как говорит Гендельман (1982):
Следовательно, нет окончательной внешней точки зрения. Текст продолжает развиваться каждый раз, когда его изучают, с каждой новой интерпретацией, ибо интерпретация есть раскрытие того, что было скрыто в тексте, а потому лишь его продолжение: текст есть самовоспроизводящийся процесс. (р. 49)
Это наводит на мысль о «Мишне» о том, что как свободные ассоциации, так и подробное исследование Салливана (используемое не для того, чтобы прямо установить факты, а деконструктивным, дезорганизующим образом) не являются входом в бессознательное, как бессознательное говорящее[2]. Фрейд, по-видимому, писал по-гречески, но думал по-еврейски. Как мы слушаем и систематизируем услышанное?
Кавелл (1993), штатный философ Американской психоаналитической ассоциации, указал, что «Бессознательное» Фрейда не отражает тонкости так называемого бессознательного процесса. Предполагается, что первичный процесс отвечает за такие семиотически сложные действия, как шутки и каламбуры, а также за очень сложные решения о том, что и когда подвергать цензуре (р. 174). Ясно, что ни концепции Фрейда, ни Салливана (1953) о «самосистеме» и «операциях безопасности» не имеют смысла без когнитивно сложного бессознательного, контактирующего со своим окружением, равно как и концепция проективной идентификации Мелани Кляйн, которая требует тонкой и таинственной настройки на бессознательное Другого. Шор (1994), нейропсихолог и тонкий интегратор психоаналитических концепций и неврологических субстратов, говорит о «проективной идентификации» Кляйн как о коммуникации правого полушария обоих участников обмена, использующей примитивные невербальные аффективные сигналы. Как же тогда возможно, что проективная идентификация включает в себя такие сложные взаимодействия и концептуализации? Если терапевты резонируют с бессознательным пациента, то явно не простым способом.
Я считаю, что центральным вопросом для психоанализа все чаще будет не то, как человеку становится лучше, а то, как он чему-то учится. Это поразительный парадокс, известный любому, кто когда-либо практиковал физическое упражнения, что существует огромная и невыразимая пропасть между интеллектуальной формулировкой деятельности и ее выполнением. Все мы знаем «экспертов по раздевалке», которые умеют «хорошо говорить» и являются неумелыми игроками. Но никакие библиотечные исследования или подробные и конкретные инструкции не дадут человеку возможности работать. Для того чтобы на собственном опыте испытать неуловимую феноменологию обучения, всем психоаналитикам не мешало бы страстно заняться изучением другого навыка.
Как, например, инструкции и правила «впитываются»? Уловить, «поймать» — чрезвычайно неясный процесс. Это требует перехода от формального набора правил к эмпирическому пониманию. У всех нас был этот опыт, феномен «ах-ха». «Вот как это выглядит» имеет очень косвенное отношение к «вот как это сделать». Но как только возникает чувство, кажется, что инструкции внезапно приобретают новую ясность. Мы приобрели «прозрение». Все это настолько очевидно, что немного неловко об этом говорить. Недаром нас называют «Апостолами очевидного». Обучение — это не ряд все более изощренных утверждений, а одни и те же простые правила, повторяемые снова и снова, но каждый раз понимаемые на совершенно ином уровне; обратите внимание на дзенскую поговорку, что последнее, чему вы учитесь, становится первым — возможно, именно поэтому я переоцениваю силу свободных ассоциаций.
Я бы сказал, что если мы все делаем что-то общее в нашей психоаналитической практике, то это явно не в нашей теоретической конгруэнтности, а должно быть чем-то невыразимым в нашей практике. Я бы также сказал, что наша деятельность имеет мало общего с нашими метапсихологическими канонами, но на самом деле затрагивает тот же бессознательный процесс обучения, что и другие виды деятельности. Сущность психоаналитической практики заключается не в горячо обсуждаемых и все более конвергентных и неуместных метапсихологиях, а в неуловимой феноменологии обучения — и, я мог бы добавить, слушания. Ибо у нас очень мало понимания того, как мы очерчиваем и различаем то, что слышим[3].
У меня сложилось четкое впечатление, что стажерам нужен не катехизис, который учит связи любимых канонов института с лечением, а способ переживания аналитического процесса, который не так сильно отличается от изучения любого другого навыка. Есть некий общий знаменатель обучения — предязык, почти проприоцептивный; возможно, вместо того, чтобы учить, мы должны создавать предварительные условия для обучения. Мы должны уделять больше внимания тому, как мы учимся, а не тому, чему мы учимся.
Почему тогда больные выздоравливают? Это не так очевидно. Разве не было бы прекрасно, если бы мы могли приписать это нашим мутативным интерпретациям? Нашему эмпатичному отношению? Нашему высшему метапсихологическому пониманию? Нами контролируемой регрессии? Конечно, мы приписываем этим вмешательствам излечение, но это в значительной степени каноническая война. Никому не нужно напоминать, что дебаты о «научном» статусе психоанализа зависели как раз от этого вопроса. Я считаю, что мы не можем убедительно продемонстрировать линейную причинно-следственную связь между тем, что мы делаем и результатом.
Очевидно, другие не согласны.
Когда я предполагаю пациенту, что он обременен иррациональным чувством вины, я вижу, как улучшается его настроение; или когда мы с пациенткой приходим к выводу, что ей больше не нужно бояться быть более сексуально сильной, чем ее мать, мы можем увидеть, как она начинает испытывать оргазмы во время полового акта. Обстоятельства, при которых психоаналитики могут делать предположения, могут быть плохо контролируемы, и получить определенные эмпирические доказательства психоаналитического утверждения может быть очень трудно, но в психоанализе возможна проверка гипотез посредством предположений. Следовательно, психоанализ – это наука. (Renik, 1988, р. 492)
Но Реник, безусловно, должен согласиться с тем, что одна и та же интерпретация, сделанная раньше, позже или в другом контексте, может не сработать. Это и есть хваленый «тайминг». Но кто знает, когда и почему? Если время пришло, пациент уже знал, что Реник собирается сказать? Была ли интерпретация завершением, вводной, разыгрыванием, разрешением? Была ли реакция пациента бегством к здоровью, конформизмом, подчинением сексуальному переносу, актом подлинной автономии? Все вышеперечисленное?
Это самый избитый спор в психоанализе. Мы не можем указать «мутативные» переменные, потому что мы не можем использовать результат для проверки наших интерпретирующих предположений. Просто потому, что что-то «работает», мы можем не предполагать, что это сработало по тем причинам, по которым мы думаем, что это сработало. Внесознательные измерения любого интерсубъективного обмена огромны. Психоаналитическая практика очень похожа на магию, которая зависит от смежных эффектов. Человек делает ряд вещей в определенном порядке. Иногда магия работает, иногда нет. Конечно, когда магия работает, это скорее вопрос интерпретации, являющейся компонентом осознания всего поля взаимодействия и понимания.
Я думаю, что мы лечим людей, подключаясь и участвуя в бессознательном — с пузырями осознания — процессе. Я думаю, что мозг индивидуален, а разум — это полевое явление, сеть, паутина. Перефразируя знаменитое высказывание Винникотта о том, что «ребенка не существует» — подразумевая, что диада «мать-ребенок» является неделимой единицей, — я бы сказал, что не существует такой вещи, как разум. Чтобы расширить эту сеть, нужны другие люди, и расширение само по себе может быть восстановительным. Возможно, проблема заключается не в понимании, а в обучении, которое включает в себя проблематику памяти. Облегчает ли эта сеть данных сначала кратковременную память, а затем долговременную память? Память предшествует обучению, которое предшествует изменению.
Я понимаю, что все это может быть очень раздражающим. Каждый хочет иметь алгоритм терапии, хочет чувствовать, что у него или у нее есть представление о том, как развивается психопатология, и теория терапии, которая применяет эту концепцию к процедурному кабинету и приводит к излечению. Напротив, то, что я предлагаю, кажется хаотичным; но только если человек чувствует, что должен контролировать ситуацию, знать, как работает терапия, знать, куда движется пациент, знать, почему происходят изменения. Если кто-то может признать, что он прикасается к невыразимому процессу и движется, как волна, — частично сознательно, частично бессознательно, частично взаимодействуя с людьми, частично автономно, частично рационально концептуализируя и частично в рамках акта таинственного взаимного творения, — тогда можно было бы пожелать увеличения и облегчения процесса без необходимости четко его улавливать. Как выразился Уилнер (1999):
«Кажущийся парадокс бессознательного опыта состоит в том, что его невозможно осознать, не теряя качественного характера самого бессознательного — его возникающего потока» (р. 621).
Я хотел бы предположить, что действие, практика психоанализа — исследование, ассоциация, сновидения, фантазии и повторение этих тем в поведенческой области пациента и терапевта, в кабинете и в их личных мирах — это лекарство! Среда действительно может быть посланием.
Психоанализ подчинен диалектическому ритму. Каждые прогресс, изначально продуктивный, превращается в доктрину, а заканчивается клише и контрпереносом. Затем начинается следующий цикл разворота. Интрапсихическое и межличностное существуют именно на таком диалектическом колесе. Я полагаю, что после интенсивного участия в трансферентных разыгрываниях и их разветвлениях — подобно тому, как традиционные психоаналитики открывают для себя межличностное — многие интерперсоналисты испытывают возрождение интереса к интрапсихическим процессам пациента. И под интрапсихическим я подразумеваю не то, что находится в бессознательном, например теорию либидо, а то, как работает бессознательное мышление.
Поскольку наша цель — произвести изменения в наших пациентах, нам надлежит обратить внимание на то, как люди учатся и меняются, на отношение сказанного к тому, что делается, опыта к осмыслению опыта. В противном случае мы останемся позади, как маги, бормоча свои заклинания и недоумевая, почему магия не работает.
[1] Верно, как указывает Солмс (1997), к 1910 году Фрейд решил, что психические функции по своей сути бессознательны, но он говорил о механизме вытеснения. Тем не менее, в сознание входит то, что позволяет проявиться защитам эго.
[2] См. Handelman (1982) для обсуждения греческих и раввинистических корней теоретизирования Фрейда. См. Rosen (2000) о связях между Интернетом и Талмудом.
[3] От нас потребуется слишком много времени, если мы подробно захотим остановиться на этом, но вкратце, это, скорее всего, связано с созданием метафор, способностью различать сходства и различия (States, 1998).