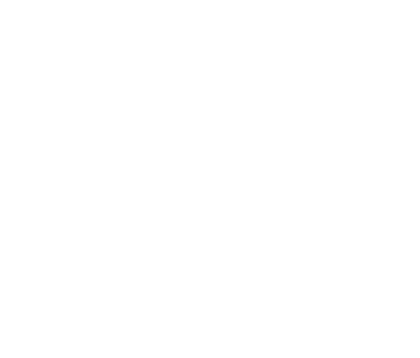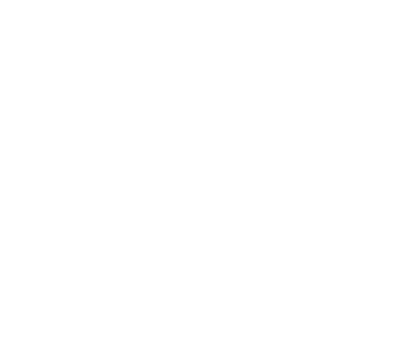Реальность и вымысел – Фильмография Тарантино на кушетке
Ана Кристина Пандольфо, Карла Брюнштейн, Кристииано Франк, Жорже Алмедиа, Лаура Мейер и Нувия Соуса (2018)
Международный журнал психоанализа
2018, 99 № 3, стр 756-764
Международный журнал психоанализа
2018, 99 № 3, стр 756-764
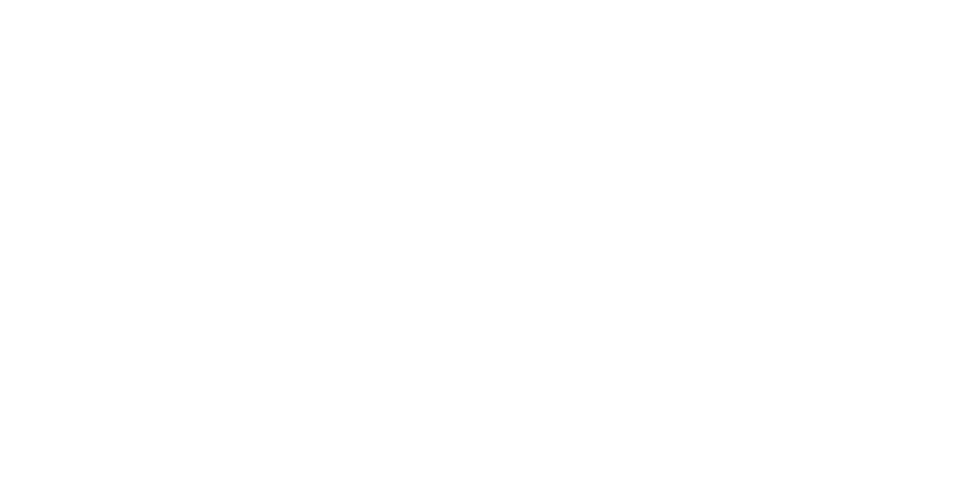
«Мне нравится, когда зритель смеется и потом БУМ, и в следующую минуту на стенах кровь»
Введение
Работа в психоанализе позволяет нам быть рядом с самыми сокровенными человеческими конфликтами. Эти конфликты несут с собой личный опыт, который появляется в разные моменты жизни, наряду с тем, что мы получаем от той культуры, в которой живем. Это двухполосная дорога, которая проложена под влиянием характеристик отдельной личности и под влиянием культуры в целом - она может быть способом доступа к знанию, – при этом сейчас она претерпевает процесс трансформации и часто принимает на себя противоположную роль, становясь причиной внутреннего невежества.
Главная тема 30-го латиноамериканского конгресса по психоанализу – реальность и вымысел – призывает нас подумать об искусстве как о ресурсе для понимания существующей культуры, о которой мы традиционно стараемся не думать. Мы живем в период, когда время отсутствует, период, когда от нас требуется немедленный ответ, когда моменты для рефлексии подавлены. Данные обстоятельства проявляются в форме нетерпимости к фрустрации и непризнании других, и то, и то – приметы времени.
Те, кто приходят к нам, встроены в нашу культуру, и наша роль как психоаналитиков – создать вместе с ними возможность поддерживать их существование с таким качеством жизни, которое удовлетворяет их. Следовательно, очень важно понимать, настолько глубоко, насколько это возможно, средства, используемые для выражения чувств. Так как на поход в кино уходит гораздо меньше временем, чем требуется для чтения и посещения музеев (художественных храмов), кино стало привлекательной, быстрой формой развлечений – частью нашей каждодневной жизни, и возможно было адаптировано именно для этого.
Кино со всем его потенциалом художественного самовыражения влияет на зрителя не только с помощью сенсорных путей через образы и звуки эстетического воздействия. В настоящее время экраны способны передавать ряд особенностей с технологическими новшествами, сталкивая нас лицом к лицу с образами в третьем измерении и другими спецэффектами, которые иногда смущают нас, так как образы настолько реальны, что мы можем действительно дотрагиваться до них и ощущать их.
Если опираться на этот подход, фильмы Кветина Тарантино заслуживают особого внимания и по-видимому выражают современный недуг, по крайней мере, его фильмы приглашают нас к обсуждению. Такие темы, как банализация насилия и личные взаимоотношения раскрываются через экстремальные проявления и гротеск, который находится на пороге реальности и вымысла.
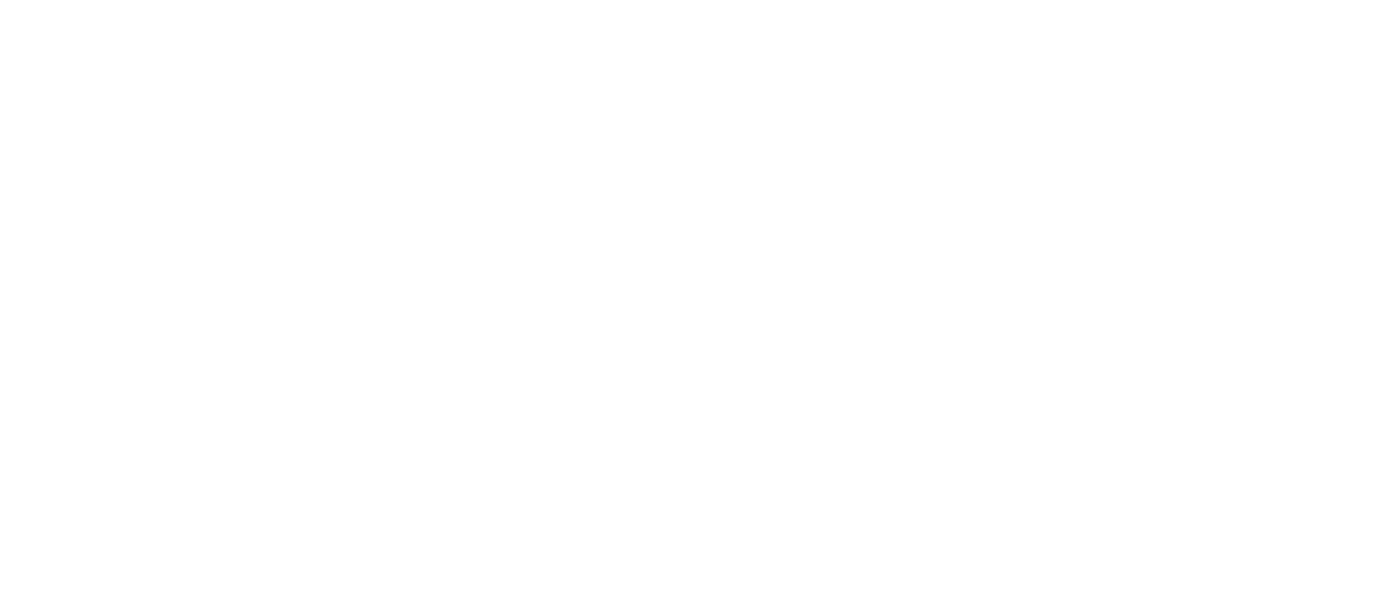
Стиль фильмов Тарантино
Тарантино описывают как энциклопедичного и эклектичного с того момента, как он начал использовать различные приемы созидающего и мыслительного кино в одном и том же фильме (Baptista, 2010). При создании фильма он использовал ряд особенностей, которые характеризуют постановку. Когда мы думаем о фильмах Тарантино, так же как о его интервью и биографии с точки зрения психоанализа, это неизбежно приводит нас к тому, что мы должны учесть, как он рассказывает свои истории, управляет различными формами выразительности, должны учесть его стиль, драматургию, а также влияние культурных и идеологических аспектов. Этот режиссер использует классическое Голливудское кино, куда включает бытовые жанры и условности, и показывает эффектную мизансцену, демонстрируя восторг в повествовании историй и главенство диалогов и слов (Baptista, 2010).
Фильмы Тарантино – это оппозиция современным обычным кинофильмам, которые характеризуются упрощенным линейным классическим повествованием со схематичными героями и заранее установленными поворотными моментами, которые обычно вдохновлены мифологией и спецэффектами; стиль, который доминировал в Голливуде с 1980-х (Baptista, 2010).
Тарантино создает свойственное только ему эстетическое удовольствие в представлении насилия, которое выражается через один из его любимых инструментов – иронию. Фрейд (1927) понимал юмор как конфликт между Эго и Суперэго, который защищает Эго и дает ему возможность преодолеть реальность (в большинстве случаев реальность, которая приносит боль). Тарантино играет в основном с иронией. Похоже, это его привычный путь выражать влечения, связанные со злостью и деструктивностью, который никогда не превращается в конкретное действие и не вредит. С помощью иронии часть гнева может быть выражена в юморе, таким образом превращаясь в другой юмор. С игривой иронией Тарантино держит зрителя на грани дискомфорта, приглашая его разделить два ощущения – тайна и смех вместе с ним – и/или элиминировать их; и чувство отчужденности, где насилие воспринимается как производное от либидинального недоинвестирования.
Фильмография Квентина Тарантино
Знакомство с миром Тарантино через его фильмы – это интригующий опыт, который усиливается чувствами, вызванными «характером» Тарантино, который мы постепенно создали в наших умах. Это то, что присутствует в большинстве его фильмов, будь он в качестве актера, или через безошибочный отпечаток его стиля.
Тарантино стал узнаваемым в мире кино после сценария «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые были проданы и стали широко известны. Он написал и снял «Бешеные псы», и позже был приглашен стать режиссером таких проектов, как «Скорость» и «Люди в черном», но предпочел работать над своим собственным сценарием фильма «Криминальное чтиво». В этом он опять оказался прав, и его фильм был награжден Золотой пальмовой ветвью в Каннах (1994), оскаром за Лучший оригинальный сценарий и был номинирован на Лучшую картину.
Далее Тарантино режиссировал четвертый эпизод Четырех комнат – «Человек из Голливуда», римейк Альфреда Хичкока. В 1996 году он продюссировал сценарий «От заката до рассвета». Признанный режиссер и сценарист со своей фильмографией, он далее принес на экран в 1997 году кино «Джеки Браун» с адаптированным сценарием и начал следующий век с многозначительного кино «Убить Билла 1 и 2» в 2003 и 2004 годах, «Доказательство смерти» в 2007, «Бесславные ублюдки» в 2009, «Джанго освобожденный» в 2012 и позднее в 2015 «Омерзительная восьмерка».
Фильмы Тарантино – это оппозиция современным обычным кинофильмам, которые характеризуются упрощенным линейным классическим повествованием со схематичными героями и заранее установленными поворотными моментами, которые обычно вдохновлены мифологией и спецэффектами; стиль, который доминировал в Голливуде с 1980-х (Baptista, 2010).
Тарантино создает свойственное только ему эстетическое удовольствие в представлении насилия, которое выражается через один из его любимых инструментов – иронию. Фрейд (1927) понимал юмор как конфликт между Эго и Суперэго, который защищает Эго и дает ему возможность преодолеть реальность (в большинстве случаев реальность, которая приносит боль). Тарантино играет в основном с иронией. Похоже, это его привычный путь выражать влечения, связанные со злостью и деструктивностью, который никогда не превращается в конкретное действие и не вредит. С помощью иронии часть гнева может быть выражена в юморе, таким образом превращаясь в другой юмор. С игривой иронией Тарантино держит зрителя на грани дискомфорта, приглашая его разделить два ощущения – тайна и смех вместе с ним – и/или элиминировать их; и чувство отчужденности, где насилие воспринимается как производное от либидинального недоинвестирования.
Фильмография Квентина Тарантино
Знакомство с миром Тарантино через его фильмы – это интригующий опыт, который усиливается чувствами, вызванными «характером» Тарантино, который мы постепенно создали в наших умах. Это то, что присутствует в большинстве его фильмов, будь он в качестве актера, или через безошибочный отпечаток его стиля.
Тарантино стал узнаваемым в мире кино после сценария «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые были проданы и стали широко известны. Он написал и снял «Бешеные псы», и позже был приглашен стать режиссером таких проектов, как «Скорость» и «Люди в черном», но предпочел работать над своим собственным сценарием фильма «Криминальное чтиво». В этом он опять оказался прав, и его фильм был награжден Золотой пальмовой ветвью в Каннах (1994), оскаром за Лучший оригинальный сценарий и был номинирован на Лучшую картину.
Далее Тарантино режиссировал четвертый эпизод Четырех комнат – «Человек из Голливуда», римейк Альфреда Хичкока. В 1996 году он продюссировал сценарий «От заката до рассвета». Признанный режиссер и сценарист со своей фильмографией, он далее принес на экран в 1997 году кино «Джеки Браун» с адаптированным сценарием и начал следующий век с многозначительного кино «Убить Билла 1 и 2» в 2003 и 2004 годах, «Доказательство смерти» в 2007, «Бесславные ублюдки» в 2009, «Джанго освобожденный» в 2012 и позднее в 2015 «Омерзительная восьмерка».
Если бы я не любил кино так сильно и не хотел бы стать актером, я бы стал преступником. Меня очень привлекал этот жизненный путь.
Психоаналитический подход к фильмам Тарантино
Театр, драматургия и некоторые жанры кино, если сравнивать со всеми остальными видами искусства, могут пониматься как поиск перевода, соединение, осмысление того, что расколото или даже бессмысленно. Гораздо больше, чем репрезентация вытесненнего, эти виды искусства обеспечивают среду для создания потенциала репрезентации вытесненного, покидая привычный комфорт и работая ментально с тем, от чего мы бежим, от того, что не имеет репрезентаций.
Мы думаем об искусстве как о сублимации, о потенциальном пространстве, где мы можем встретиться с репрезентациями, так как это показывает человеку что-то до боли знакомое, делает вытесненное выраженным, находя облегчение и связь.
Наша группа двигалась между идеей и желанием, что Тарантино стремится – возможно, бессознательно – в своих работах к де-отчуждающей эстетике, при этом есть и другие гипотезы, в которых его работы предстают как симптом, средство выражения и особенность нашей культуры.
Фрейд (1930) показал, как мифология переводит и символически выражает то, что несет в себе коллективное бессознательное. Наши вытесненные влечения и ненависть находятся на стыке с искусством, которое выковано и освящено, поскольку оно несет универсальность всех нас.
Некоторые фильмы Тарантино при просмотре выбивают тебя из колеи, но, в каком-то смысле, и поддерживают, передают опыт и делятся чувствами в кинотеатре перед экраном в зависимости от того, что вводится в игру; однако, в большинстве случаев, мы захвачены ими.
Таким образом, мы попадаем в состояние, которое заставляет нас подумать о движении от самого примитивного, чистого разряда, который проходит через гибридные формы, через выражение в теле, действии, пока не достигнет более символического уровня.
Если далее будем рассматривать сублимацию, можно подумать, что Тарантино во многих случаях использовал типичные методы работы через сновидения, описанные Фрейдом. Он делает это через использование символизма, где отделенный элемент вытесненного в ассоциативной цепи, представляется осознанным. Примером этого может быть самурайский меч как фаллический символ – женщина, которая видит себя кастрированной без своей дочери и атакованной в голову (выстрелом), проходит самурайскую подготовку и кует свой меч/фаллос в фильме «Убить Билла».
Аналогично конденсационное смещение и пластическое представление слов можно идентифицировать в «Криминальном чтиве», так как в нескольких сценах мы чувствуем себя как во сне, в котором персонажи предстают более, чем в одной роли; например, Джон Траволта представлен как персонаж, в котором есть плохой мальчик, наркоман, но который якобы беспокоится за Миа, боится за нее, и все же достаточно хладнокровен, чтобы убить.
Принципы Бессознательного, описанные Фрейдом, можно абсолютно четко идентифицировать в фильмах Тарантино – такие, как первичный процесс, амбивалентность, безвременье и отсутствие нет. Мы идентифицируем эти элементы, когда Тарантино поворачивает время вспять, в его игровом отношении и неестественном выборе; в чувствах, которые появляются, когда смотришь его фильмы, а жизненно важная часть действия упущена или скрыта, потому что Тарантино предпочел оставить ее в космосе. Вытеснение или отрицание?
На другом уровне в поисках репрезентации, мы думаем о концепции пластичности (Botella and Botella, 2003), где мы находим контекст все еще непредставленного или непредставляемого аффекта и превербальных переживаний, которые пытается найти аналитик. Это психическая боль, которая ведет нас к необходимости прибегнуть к пластичности. Дискофморт ведет нас к другим путям связывания, поскольку стремление к смерти и деструктивность появляется в контексте, в котором психика не в состоянии сдержать вторжение влечения. Возможно это роль фильмов Тарантино на уровне искусства? Кино как ресурс для попыток контейнировать, создавать репрезентации и связывать?
Более регрессивные уровни, когда репрезентации связаны с ужасом, возникающим вследствие травмы, похоже, совпадают с некоторыми моментами, которые касаются невыносимого в Тарантино; это те моменты в фильме, когда некоторые люди покидают кинотеатр, а другие закрывают глаза. Реальность здесь предстает в самом чистом виде.
Несмотря на и за пределами индивидуального восприятия выражения агрессии у Тарантино, мы понимаем, что он и его работы могут представлять собой культурную необходимость выражения нашей собственной деструктивности. Его фильмы затрагивают проблемы, связанные с тем, что мы видим в сфере религиозного фундаментализма, терроризма и ежедневного городского насилия. Мы можем рассматривать современное художественное выражение как стремление выражать неосмысленные или примитивные психические состояния; работа по преодолению культурного кризиса, связанного с насилием.
Ранняя карьера Тарантино была особо отмечена наличием самых примитивных аспектов в его искусстве и была связана с насилием и деструктивностью, это было основным языком персонажей. Вопросы о насилии встречаются почти в каждом интервью в этот первый период, который последовал за успехом в Каннах. По этому поводу Тарантино воспользовался возможностью упомянуть о связи между тем, что появляется в его фильмах и его личной жизни: «Если бы вы действительно знали меня, вы бы были удивлены тем, как много в моих фильмах обо мне» (Tarantino, 1998, 88).
Мы стали ближе к нашему герою, Квентину Тарантино. Мы будем обращаться к нему иногда как Квентин, иногда как Тарантино, в зависимости от тех направлений, которые мы будем брать для его изучения, когда мы будем говорить о его жизни/или его работе, которые так тесно переплетены.
Квентин относится к своим произведениям как к тому, что помогло определить его судьбу. «Если бы я не любил кино так сильно и не хотел бы стать актером, я бы стал преступником. Меня очень привлекал этот жизненный путь» (Tarantino, 164). Когда он говорит, он таким образом ссылается на среду, в которой он вырос, когда был подростком. Он бросил школу по своему собственному желанию, когда ему было 16 лет, против желания матери. Он был тем, кого мы можем назвать подросток с высоким уровнем риска, но подростком, который полностью ассоциировался с идеей: играй и снимай кино! Он говорит, что всегда хотел быть актером: «Когда я был ребенком, я хотел быть актером, потому что, когда ты любишь кино, это то, к чему тебя тянет» (Tarantino, 11). Его мама рассказывает о сомнениях, которые появились, когда он начал угасать в раннем подростковом возрасте из-за риска быть втянутым в плохую соседскую компанию. Она говорит: «Я знала, если я позволю остаться ему дома, он начнет писать пьесы и истории, и переносить их в кино…» (Bernard, 1995, 22). Квентин был очарован фильмами любого жанра, особенно так называемым кино для широких масс (exploitation and pulp) (журналы историй на дешевой бумаге) и был похож на некоторых современных подростков, кто привержен видеоиграм компульсивным образом: «Я был ребенком с очень туннельным видением. Я был очень плохим в школе. Мне не было там интересно. Я не любил спорт…я был в кино и комиксах. И журналах с монстрами» (Tarantino, 1998, 12).
С ранних лет Квентин был очарован формами культурного самовыражения с чрезмерным насильственным и сексуальным содержанием. Его растила молодая мама, Конни, которая родила его, когда ей было 16, и которая всегда поддерживала сына, чтобы он был сильным и способным, как она сама, она верила, что достигла этого. Его артистические способности доказали это. В детстве, пока его мама работала, о нем заботился ее второй муж, который был не сильно старше ее. Младший брат мамы и брат отчима, которому было 19, столько же, сколько Конни, также жил в их доме. В то время Квентину было три года.
По словам мамы они жили, «как в Диснейленде» (Bernard, 1995) и смотрели много фильмов. Она любила кино, и они вместе с отчимом, брали сына с собой смотреть фильмы, даже если они не были подходящими для детей. В 9 лет Квентин посмотрел фильм «Избавление», и его мама упомянала, что он был очень впечатлен сценой изнасилования мужчины. После этого он больше никогда не ходил в походы и во взрослом возрасте упоминает об этом в сцене изнасилования мужчины в Криминальном чтиве[1]. Вот другой пример, как влияние детства проявляется в его фильмах: в первом классе, когда учитель спросил об имени его матери, он ответил Модести Блейз, это персонаж комиксов, которые были экранизированы в 1960-е годы, героиня в стиле Джеймса Бонда. Тот же персонаж – героиня журнала, который читал Джон Траволта в ванной перед отъездом и обстрелом Брюсом Уиллисом в «Криминальном чтиве» (Bernard, 1995, 15).
Конни всегда дралась за своего сына. Нет сомнений, что ее отношения с ним имели более эмоциональное значение для него, чем любые другие отношения, которые у него были с родительскими фигурами – с отцом и двумя отчимами, с которыми он общался:
Так как я рос в основном без отца, я искал его где-то в других местах…одна из вещей, которую должен делать отец…он должен говорить ребенку, ты знаешь, каково это быть мужчиной… Это важная вещь для мальчика…мальчики ищут этого, неважно произносят они это или нет… Детство – действительно загадочно для ребенка… и так как у меня не было кого-то, кем я мог восхищаться, кто показывал мне путь и пример, я искал его и думал, что нашел его в фильмах Говарда Хоукса (Bernard, 1995б 20-21).
Таким образом, мы можем предположить, что его мама Конни и фильмы заменили Квентину отца, их он ощущал как отцовскую фигуру.
Потенциальное пространство, описанное в теории Винникотта (1967 [1971]), развивается из первичных отношений ребенка и его матери, и согласно автору, представляют область человеческого воображения. Отсутствие четких границ между миром взрослого и ребенка в среде, в которой вырос Квентин, привели к слабой защите от влияний, которым он подвергался. Мы думаем, что погоня за сферой творчества случилась через написание и режиссуру фильмов, которое казалось выполняло функцию зеркала, где, на короткие моменты, мы идентифицируемся с образами, и в то же самое время оно служит рабочим местом для тревог автора.
Огден (2004) писал о потенциальном пространстве, представляя способ теоритезировать способность к символизации, которую он понимал как способность «поддерживать психологическую диалектику»:
Достижение способности поддерживать психологическую диалектику включает в себя трансформацию единства, которое не требовало перевода символа в «тройственность», динамическое взаимодействие трех дифференцированных сущностей. Эти сущности – символ (мысль), символизированное (о чем мысль) и интерпретирующий субъект (мыслитель, который создает свои собственные мысли и интерпретирует свои собственные символы) (213).
Мы таким образом представляем, что символ – это фильм, который отражает первичную тревогу, а субъект, который интерпретирует, – это, собственно, сам режиссер, разум, создающий символический материал, а также зритель, который помогает Кветину думать или, вернее, сталкивается с фильмом и пытается понять символический материал. Тогда мы рассуждаем, что фильм может функционировать как то, что представляет реальность, более ясно и служит посредником необходимости проработки агрессивных импульсов и первичной тревоги.
Принимая во внимание сценарий детства Тарантино как отправную точку, мы считаем, что переживание интерсубъективности мать-ребенок было вдохновляющим материалом для его работы. Продукт – это общие пространства, присущие эмоциональному опыту просмотра его фильмов и переживания ощущений, которые являются первичными, эквивалентными тем, которые записаны в уме задолго до того, как они могут быть названы; опыт пребывания с матерью, даже при просмотре фильма. Посредническая функция этого опыта, интерсубъективное пространство касается коммуникационных аспектов травмы, а также это попытка символического выражения, запрет на совершение актов насилия и риск инцеста. В своей беспомощности, подавленный собственными порывами, Тарантино парадоксально нашел в кино функцию защиты и запрета. Для Фарбейна (1940) чувство беспомощности, которое возникает как результат шрамов от отвержения, оставленных неудовлетворенными потребностями, также могут указать путь надежде найти защиту.
Кажется понятным, что Тарантино двигался через разные уровни психического функционирования. Насилие, черный юмор и садизм также были в фантазийной жизни Квентина до того, как он стал подростком, и не только в фантазиях, но также в его предпочтительном виде отдыха. Мы знаем, что садистические аспекты – часть нормального развития человека. Мелани Кляйн в 1927 году в статье о Криминальных наклонностях нормального ребенка пишет:
Во всех этих ситуациях (конфликты с объектами), когда чувства негативны, ребенок реагирует сильной и интенсивной ненавистью, характеризующей начальные садистские стадии развития. Однако, так как объект, который ненавидят, также любим, конфликт вскоре становится бременем для слабого эго; и единственный выход уходить от этого – это вытеснение. Таким образом, все конфликтные ситуации которые никогда не будут разрешены, остаются активными в бессознательном (Klein, 1996 [1927], 202).
Бессознательное – это ресурс для всех творений искусства, созданных подобным образом и достигающих значительного статуса для человеческого существования, так как оно затрагивает что-то общее для всех. Когда мы начинаем писать, герои приходят в жизнь как свободные ассоциации. Таким образом, создание произведений искусства случается в потенциальном пространстве, где бессознательное находит выражение через бОльшую свободу, чем художник имеет дело с ментальным содержанием и острой необходимостью работать с тем, что часто ищет выражения.
У Тарантино была потребность в фильмах и сценариях с раннего периода своей жизни, как путь, который связывает его внутренние конфликты и естественную тревогу развития, это его «терапевтическая игра». Мягкость и эксплуатация имеют дело с тем, что порождает наибольший конфликт в человеческом существовании: сексуальность и насилие. Принимая это во внимание как начальную точку, мы можем попытаться понять «Феномен Тарантино» как то, что откликается в каждом из нас; «искусство соединяет, символизирует и вызывает в зрителе что-то похожее на архаичные эмоции довербального типа» (Segal 1993, 92). Мы в кино – это те, кто принимает.
Тарантино творит в форме свободных ассоциаций. «Мечта», которую он нам дарит, говорит о человеческом в каждом из нас. Чувствуя себя более или менее комфортно, мы можем наблюдать примитивные аспекты, которые показывают нам герои. Мы идентифицируем себя с тем, что исходит из бессознательного режиссера, автора, актера, и эта идентификация переносит нас в само кино и позволяет нам наслаждаться примитивными и деструктивными аспектами, которые присущи всему человеческому существованию, влечением к смерти или влечением к деструктивности, как угодно.
Влечение к деструктивности (Freud, 1920) и попытки сублимации идут рука об руку у Тарантино. Фрейд (1930) в «Недовольстве культурой» воспринимает культуру и цивилизацию как близкие понятия, и пытается объяснить, что напряжение между требованиями цивилизации и противостояние врожденным влечениям человека порождают невроз. Тарантино как-то умудряется отказываться от неограниченного удовольствия от внешнего проявления влечения к смерти, излечивая свой невроз через седьмое искусство, через свои фильмы. Идея сублимации, связанная с художественным выражением как методом одновременно избежать неудовольствия и запрета и найти некоторое удовлетворение, кажется решением, которое режиссер использует, щедро делясь с нами.
Для Винникотта (1936 [1958]), художественное выражение – это то, что держит нас в контакте со своими примитивными личностями, от которых приходят самые интенсивные чувства и самые пугающие ощущения. Он говорил:
Иногда художник, который пишет обычные картины, дает нам определенный кусочек своего внутреннего мира, что очень мужественно. Результат ужасен для большинства людей. Они видят кусочки и обрывки везде, и кажется, что мясная лавка уже не так страшна. Иные же могут восхищаться таким художественным куражом, даже если обеспокоены своим бегством от фантазии к анатомии (94).
Кристева (Metz, 1980), ссылаясь на кинематографическую визуализацию пишет, что это позволило бы идентифицировать то, что еще невозможно распознать, так как влечение еще не символизировано.
Совсем как Тарантино создает гипотетические ситуации, в которых он дает новое направление человечеству через фильм, например, уничтожая нацистское руководство в «Бесславных ублюдках», в своих фильмах, фильм за фильмом он пытается работать через лишения и конфликты. В его фильмах время идет в необычной логике; в конце концов Вторая мировая война – это история. Бессознательное также показывается нам в настоящем как нечто с самыми первичными тревогами, от которых мы пострадали и которые никогда не были полностью интегрированными. Благодаря этому у нас всегда будет шанс увидеть еще одного Тарантино, и всегда иметь внутри нас источник преобразующего творчества, которым является человеческое бессознательное.
Многие реакции на фильмы Тарантино представляют собой своего рода мифологизацию. Его художественные произведения затрагивают нашу свободу, показывая на экране ситуации, которые мы склонны подавлять. Мы знаем, что это вытесненное нуждается в символизации, и один из путей сублимации – это искусство; Тарантино признал это в качестве пути, который дает ему конструктивную, а не деструктивную судьбу. Другой путь, в который Тарантино нас вовлекает, - это своего рода поездка, которую мы можем осуществить с персонажами, когда мы отождествляем себя с ними, преследователями или жертвами, делая то, о чем, возможно, не позволили бы себе думать даже в диком сне. Через возможность совершения контакта с бессознательным и представление его в седьмом искусстве, Тарантино дает нам такую возможность. Мы можем чувствовать массовое убийство и разрушение, идентифицируя себя с героями, и покидая кинотеатр заряженными, но без чувства вины.
По Фрейду (1930) в «Недовольстве культурой» часть влечения к смерти выходит во внешний мир через агрессию и деструктивность, чтобы не разрушить самого себя. В человеке есть врожденная склонность ко злу, агрессии, деструктивности и жестокости. Безусловно, искусство помогает нам иметь дело с нашей смертельно опасной деструктивностью, которая ведет нас к рискованному призыву к человечеству: больше Тарантино, меньше Ирака!
[1] Тот же источникA typical studio lighting configuration will consist of a fill source to control shadow tone, a single frontal key light to create the highlight modeling clues on the front of the object facing the camera over the shadows the fill illuminates, one or more rim/accent lights to create separation between foreground and background, and one or more background lights to control the tone of the background and separation between it and the foreground.
Мы думаем об искусстве как о сублимации, о потенциальном пространстве, где мы можем встретиться с репрезентациями, так как это показывает человеку что-то до боли знакомое, делает вытесненное выраженным, находя облегчение и связь.
Наша группа двигалась между идеей и желанием, что Тарантино стремится – возможно, бессознательно – в своих работах к де-отчуждающей эстетике, при этом есть и другие гипотезы, в которых его работы предстают как симптом, средство выражения и особенность нашей культуры.
Фрейд (1930) показал, как мифология переводит и символически выражает то, что несет в себе коллективное бессознательное. Наши вытесненные влечения и ненависть находятся на стыке с искусством, которое выковано и освящено, поскольку оно несет универсальность всех нас.
Некоторые фильмы Тарантино при просмотре выбивают тебя из колеи, но, в каком-то смысле, и поддерживают, передают опыт и делятся чувствами в кинотеатре перед экраном в зависимости от того, что вводится в игру; однако, в большинстве случаев, мы захвачены ими.
Таким образом, мы попадаем в состояние, которое заставляет нас подумать о движении от самого примитивного, чистого разряда, который проходит через гибридные формы, через выражение в теле, действии, пока не достигнет более символического уровня.
Если далее будем рассматривать сублимацию, можно подумать, что Тарантино во многих случаях использовал типичные методы работы через сновидения, описанные Фрейдом. Он делает это через использование символизма, где отделенный элемент вытесненного в ассоциативной цепи, представляется осознанным. Примером этого может быть самурайский меч как фаллический символ – женщина, которая видит себя кастрированной без своей дочери и атакованной в голову (выстрелом), проходит самурайскую подготовку и кует свой меч/фаллос в фильме «Убить Билла».
Аналогично конденсационное смещение и пластическое представление слов можно идентифицировать в «Криминальном чтиве», так как в нескольких сценах мы чувствуем себя как во сне, в котором персонажи предстают более, чем в одной роли; например, Джон Траволта представлен как персонаж, в котором есть плохой мальчик, наркоман, но который якобы беспокоится за Миа, боится за нее, и все же достаточно хладнокровен, чтобы убить.
Принципы Бессознательного, описанные Фрейдом, можно абсолютно четко идентифицировать в фильмах Тарантино – такие, как первичный процесс, амбивалентность, безвременье и отсутствие нет. Мы идентифицируем эти элементы, когда Тарантино поворачивает время вспять, в его игровом отношении и неестественном выборе; в чувствах, которые появляются, когда смотришь его фильмы, а жизненно важная часть действия упущена или скрыта, потому что Тарантино предпочел оставить ее в космосе. Вытеснение или отрицание?
На другом уровне в поисках репрезентации, мы думаем о концепции пластичности (Botella and Botella, 2003), где мы находим контекст все еще непредставленного или непредставляемого аффекта и превербальных переживаний, которые пытается найти аналитик. Это психическая боль, которая ведет нас к необходимости прибегнуть к пластичности. Дискофморт ведет нас к другим путям связывания, поскольку стремление к смерти и деструктивность появляется в контексте, в котором психика не в состоянии сдержать вторжение влечения. Возможно это роль фильмов Тарантино на уровне искусства? Кино как ресурс для попыток контейнировать, создавать репрезентации и связывать?
Более регрессивные уровни, когда репрезентации связаны с ужасом, возникающим вследствие травмы, похоже, совпадают с некоторыми моментами, которые касаются невыносимого в Тарантино; это те моменты в фильме, когда некоторые люди покидают кинотеатр, а другие закрывают глаза. Реальность здесь предстает в самом чистом виде.
Несмотря на и за пределами индивидуального восприятия выражения агрессии у Тарантино, мы понимаем, что он и его работы могут представлять собой культурную необходимость выражения нашей собственной деструктивности. Его фильмы затрагивают проблемы, связанные с тем, что мы видим в сфере религиозного фундаментализма, терроризма и ежедневного городского насилия. Мы можем рассматривать современное художественное выражение как стремление выражать неосмысленные или примитивные психические состояния; работа по преодолению культурного кризиса, связанного с насилием.
Ранняя карьера Тарантино была особо отмечена наличием самых примитивных аспектов в его искусстве и была связана с насилием и деструктивностью, это было основным языком персонажей. Вопросы о насилии встречаются почти в каждом интервью в этот первый период, который последовал за успехом в Каннах. По этому поводу Тарантино воспользовался возможностью упомянуть о связи между тем, что появляется в его фильмах и его личной жизни: «Если бы вы действительно знали меня, вы бы были удивлены тем, как много в моих фильмах обо мне» (Tarantino, 1998, 88).
Мы стали ближе к нашему герою, Квентину Тарантино. Мы будем обращаться к нему иногда как Квентин, иногда как Тарантино, в зависимости от тех направлений, которые мы будем брать для его изучения, когда мы будем говорить о его жизни/или его работе, которые так тесно переплетены.
Квентин относится к своим произведениям как к тому, что помогло определить его судьбу. «Если бы я не любил кино так сильно и не хотел бы стать актером, я бы стал преступником. Меня очень привлекал этот жизненный путь» (Tarantino, 164). Когда он говорит, он таким образом ссылается на среду, в которой он вырос, когда был подростком. Он бросил школу по своему собственному желанию, когда ему было 16 лет, против желания матери. Он был тем, кого мы можем назвать подросток с высоким уровнем риска, но подростком, который полностью ассоциировался с идеей: играй и снимай кино! Он говорит, что всегда хотел быть актером: «Когда я был ребенком, я хотел быть актером, потому что, когда ты любишь кино, это то, к чему тебя тянет» (Tarantino, 11). Его мама рассказывает о сомнениях, которые появились, когда он начал угасать в раннем подростковом возрасте из-за риска быть втянутым в плохую соседскую компанию. Она говорит: «Я знала, если я позволю остаться ему дома, он начнет писать пьесы и истории, и переносить их в кино…» (Bernard, 1995, 22). Квентин был очарован фильмами любого жанра, особенно так называемым кино для широких масс (exploitation and pulp) (журналы историй на дешевой бумаге) и был похож на некоторых современных подростков, кто привержен видеоиграм компульсивным образом: «Я был ребенком с очень туннельным видением. Я был очень плохим в школе. Мне не было там интересно. Я не любил спорт…я был в кино и комиксах. И журналах с монстрами» (Tarantino, 1998, 12).
С ранних лет Квентин был очарован формами культурного самовыражения с чрезмерным насильственным и сексуальным содержанием. Его растила молодая мама, Конни, которая родила его, когда ей было 16, и которая всегда поддерживала сына, чтобы он был сильным и способным, как она сама, она верила, что достигла этого. Его артистические способности доказали это. В детстве, пока его мама работала, о нем заботился ее второй муж, который был не сильно старше ее. Младший брат мамы и брат отчима, которому было 19, столько же, сколько Конни, также жил в их доме. В то время Квентину было три года.
По словам мамы они жили, «как в Диснейленде» (Bernard, 1995) и смотрели много фильмов. Она любила кино, и они вместе с отчимом, брали сына с собой смотреть фильмы, даже если они не были подходящими для детей. В 9 лет Квентин посмотрел фильм «Избавление», и его мама упомянала, что он был очень впечатлен сценой изнасилования мужчины. После этого он больше никогда не ходил в походы и во взрослом возрасте упоминает об этом в сцене изнасилования мужчины в Криминальном чтиве[1]. Вот другой пример, как влияние детства проявляется в его фильмах: в первом классе, когда учитель спросил об имени его матери, он ответил Модести Блейз, это персонаж комиксов, которые были экранизированы в 1960-е годы, героиня в стиле Джеймса Бонда. Тот же персонаж – героиня журнала, который читал Джон Траволта в ванной перед отъездом и обстрелом Брюсом Уиллисом в «Криминальном чтиве» (Bernard, 1995, 15).
Конни всегда дралась за своего сына. Нет сомнений, что ее отношения с ним имели более эмоциональное значение для него, чем любые другие отношения, которые у него были с родительскими фигурами – с отцом и двумя отчимами, с которыми он общался:
Так как я рос в основном без отца, я искал его где-то в других местах…одна из вещей, которую должен делать отец…он должен говорить ребенку, ты знаешь, каково это быть мужчиной… Это важная вещь для мальчика…мальчики ищут этого, неважно произносят они это или нет… Детство – действительно загадочно для ребенка… и так как у меня не было кого-то, кем я мог восхищаться, кто показывал мне путь и пример, я искал его и думал, что нашел его в фильмах Говарда Хоукса (Bernard, 1995б 20-21).
Таким образом, мы можем предположить, что его мама Конни и фильмы заменили Квентину отца, их он ощущал как отцовскую фигуру.
Потенциальное пространство, описанное в теории Винникотта (1967 [1971]), развивается из первичных отношений ребенка и его матери, и согласно автору, представляют область человеческого воображения. Отсутствие четких границ между миром взрослого и ребенка в среде, в которой вырос Квентин, привели к слабой защите от влияний, которым он подвергался. Мы думаем, что погоня за сферой творчества случилась через написание и режиссуру фильмов, которое казалось выполняло функцию зеркала, где, на короткие моменты, мы идентифицируемся с образами, и в то же самое время оно служит рабочим местом для тревог автора.
Огден (2004) писал о потенциальном пространстве, представляя способ теоритезировать способность к символизации, которую он понимал как способность «поддерживать психологическую диалектику»:
Достижение способности поддерживать психологическую диалектику включает в себя трансформацию единства, которое не требовало перевода символа в «тройственность», динамическое взаимодействие трех дифференцированных сущностей. Эти сущности – символ (мысль), символизированное (о чем мысль) и интерпретирующий субъект (мыслитель, который создает свои собственные мысли и интерпретирует свои собственные символы) (213).
Мы таким образом представляем, что символ – это фильм, который отражает первичную тревогу, а субъект, который интерпретирует, – это, собственно, сам режиссер, разум, создающий символический материал, а также зритель, который помогает Кветину думать или, вернее, сталкивается с фильмом и пытается понять символический материал. Тогда мы рассуждаем, что фильм может функционировать как то, что представляет реальность, более ясно и служит посредником необходимости проработки агрессивных импульсов и первичной тревоги.
Принимая во внимание сценарий детства Тарантино как отправную точку, мы считаем, что переживание интерсубъективности мать-ребенок было вдохновляющим материалом для его работы. Продукт – это общие пространства, присущие эмоциональному опыту просмотра его фильмов и переживания ощущений, которые являются первичными, эквивалентными тем, которые записаны в уме задолго до того, как они могут быть названы; опыт пребывания с матерью, даже при просмотре фильма. Посредническая функция этого опыта, интерсубъективное пространство касается коммуникационных аспектов травмы, а также это попытка символического выражения, запрет на совершение актов насилия и риск инцеста. В своей беспомощности, подавленный собственными порывами, Тарантино парадоксально нашел в кино функцию защиты и запрета. Для Фарбейна (1940) чувство беспомощности, которое возникает как результат шрамов от отвержения, оставленных неудовлетворенными потребностями, также могут указать путь надежде найти защиту.
Кажется понятным, что Тарантино двигался через разные уровни психического функционирования. Насилие, черный юмор и садизм также были в фантазийной жизни Квентина до того, как он стал подростком, и не только в фантазиях, но также в его предпочтительном виде отдыха. Мы знаем, что садистические аспекты – часть нормального развития человека. Мелани Кляйн в 1927 году в статье о Криминальных наклонностях нормального ребенка пишет:
Во всех этих ситуациях (конфликты с объектами), когда чувства негативны, ребенок реагирует сильной и интенсивной ненавистью, характеризующей начальные садистские стадии развития. Однако, так как объект, который ненавидят, также любим, конфликт вскоре становится бременем для слабого эго; и единственный выход уходить от этого – это вытеснение. Таким образом, все конфликтные ситуации которые никогда не будут разрешены, остаются активными в бессознательном (Klein, 1996 [1927], 202).
Бессознательное – это ресурс для всех творений искусства, созданных подобным образом и достигающих значительного статуса для человеческого существования, так как оно затрагивает что-то общее для всех. Когда мы начинаем писать, герои приходят в жизнь как свободные ассоциации. Таким образом, создание произведений искусства случается в потенциальном пространстве, где бессознательное находит выражение через бОльшую свободу, чем художник имеет дело с ментальным содержанием и острой необходимостью работать с тем, что часто ищет выражения.
У Тарантино была потребность в фильмах и сценариях с раннего периода своей жизни, как путь, который связывает его внутренние конфликты и естественную тревогу развития, это его «терапевтическая игра». Мягкость и эксплуатация имеют дело с тем, что порождает наибольший конфликт в человеческом существовании: сексуальность и насилие. Принимая это во внимание как начальную точку, мы можем попытаться понять «Феномен Тарантино» как то, что откликается в каждом из нас; «искусство соединяет, символизирует и вызывает в зрителе что-то похожее на архаичные эмоции довербального типа» (Segal 1993, 92). Мы в кино – это те, кто принимает.
Тарантино творит в форме свободных ассоциаций. «Мечта», которую он нам дарит, говорит о человеческом в каждом из нас. Чувствуя себя более или менее комфортно, мы можем наблюдать примитивные аспекты, которые показывают нам герои. Мы идентифицируем себя с тем, что исходит из бессознательного режиссера, автора, актера, и эта идентификация переносит нас в само кино и позволяет нам наслаждаться примитивными и деструктивными аспектами, которые присущи всему человеческому существованию, влечением к смерти или влечением к деструктивности, как угодно.
Влечение к деструктивности (Freud, 1920) и попытки сублимации идут рука об руку у Тарантино. Фрейд (1930) в «Недовольстве культурой» воспринимает культуру и цивилизацию как близкие понятия, и пытается объяснить, что напряжение между требованиями цивилизации и противостояние врожденным влечениям человека порождают невроз. Тарантино как-то умудряется отказываться от неограниченного удовольствия от внешнего проявления влечения к смерти, излечивая свой невроз через седьмое искусство, через свои фильмы. Идея сублимации, связанная с художественным выражением как методом одновременно избежать неудовольствия и запрета и найти некоторое удовлетворение, кажется решением, которое режиссер использует, щедро делясь с нами.
Для Винникотта (1936 [1958]), художественное выражение – это то, что держит нас в контакте со своими примитивными личностями, от которых приходят самые интенсивные чувства и самые пугающие ощущения. Он говорил:
Иногда художник, который пишет обычные картины, дает нам определенный кусочек своего внутреннего мира, что очень мужественно. Результат ужасен для большинства людей. Они видят кусочки и обрывки везде, и кажется, что мясная лавка уже не так страшна. Иные же могут восхищаться таким художественным куражом, даже если обеспокоены своим бегством от фантазии к анатомии (94).
Кристева (Metz, 1980), ссылаясь на кинематографическую визуализацию пишет, что это позволило бы идентифицировать то, что еще невозможно распознать, так как влечение еще не символизировано.
Совсем как Тарантино создает гипотетические ситуации, в которых он дает новое направление человечеству через фильм, например, уничтожая нацистское руководство в «Бесславных ублюдках», в своих фильмах, фильм за фильмом он пытается работать через лишения и конфликты. В его фильмах время идет в необычной логике; в конце концов Вторая мировая война – это история. Бессознательное также показывается нам в настоящем как нечто с самыми первичными тревогами, от которых мы пострадали и которые никогда не были полностью интегрированными. Благодаря этому у нас всегда будет шанс увидеть еще одного Тарантино, и всегда иметь внутри нас источник преобразующего творчества, которым является человеческое бессознательное.
Многие реакции на фильмы Тарантино представляют собой своего рода мифологизацию. Его художественные произведения затрагивают нашу свободу, показывая на экране ситуации, которые мы склонны подавлять. Мы знаем, что это вытесненное нуждается в символизации, и один из путей сублимации – это искусство; Тарантино признал это в качестве пути, который дает ему конструктивную, а не деструктивную судьбу. Другой путь, в который Тарантино нас вовлекает, - это своего рода поездка, которую мы можем осуществить с персонажами, когда мы отождествляем себя с ними, преследователями или жертвами, делая то, о чем, возможно, не позволили бы себе думать даже в диком сне. Через возможность совершения контакта с бессознательным и представление его в седьмом искусстве, Тарантино дает нам такую возможность. Мы можем чувствовать массовое убийство и разрушение, идентифицируя себя с героями, и покидая кинотеатр заряженными, но без чувства вины.
По Фрейду (1930) в «Недовольстве культурой» часть влечения к смерти выходит во внешний мир через агрессию и деструктивность, чтобы не разрушить самого себя. В человеке есть врожденная склонность ко злу, агрессии, деструктивности и жестокости. Безусловно, искусство помогает нам иметь дело с нашей смертельно опасной деструктивностью, которая ведет нас к рискованному призыву к человечеству: больше Тарантино, меньше Ирака!
[1] Тот же источникA typical studio lighting configuration will consist of a fill source to control shadow tone, a single frontal key light to create the highlight modeling clues on the front of the object facing the camera over the shadows the fill illuminates, one or more rim/accent lights to create separation between foreground and background, and one or more background lights to control the tone of the background and separation between it and the foreground.
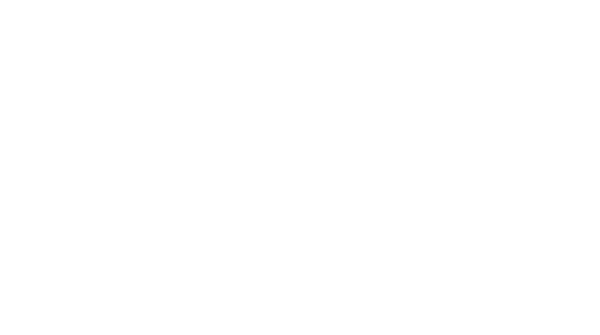
Заключение
Фильмы Тарантино – это те фильмы, которые, похоже, провоцируют амбивалентность, присущую людям и широко представленную у людей нашего времени. С одной стороны, в сценах, которые он представляет, он разоблачает, с другой – навязывает ли он? Если он запускает мысль, заставляет ли он нас не хотеть думать? Если он освобождает, то в той же мере он угнетает, сдерживает?
Возможно, именно потому, что Тарантино скитается по разным уровням психического функционирования в своих фильмах, он уникален. Сублимированные символы позволяют нам поддержать первертные сцены, сцены чистой разрядки, травмы. Мы бродим между Реальностью и Символами.
Детство Тарантино показывает нам ситуации, которые рассматриваться как факторы риска для эмоционального развития: мать подросткового возраста, которая осталась без поддержки отца ребенка, и среда, где границы между детством, юностью и зрелостью размыты. Однако, мы верим, что это не привело к значительному ущербу в развитии его символического потенциала и не помешало его способности к творчеству.
В значительной степени первичные отношения Квентина с его матерью, Конни, обеспечили ему довольно развитую способность обрабатывать эмоции и связывать их с реальностью: как создавать символы, которые могли бы передаваться через его любимую игру: фильмы. От этой первой встречи он мог бы иметь внутри себя сюжетную линию, в которой поддерживался бы водоворот импульсов, место, где он мог бы работать с самыми примитивными эмоциями, оставшимся эксцессом беспорядков всех времен, в амальгаме с чем-то настоящим с потребностями быть живым внутри себя сейчас.
Через сюжетную линию (потенциальное пространство) художник находит место, в котором то, что в избытке, сложно интегрируемое, можно связать. Мы думаем, что мальчик Квентин все еще нуждается в том, чтобы осознать бесчинства, которым он подвергся, и он использует взрослого, которым он стал, для этой цели. Мы могли бы назвать бесспорное наследие Тарантино для седьмого искусства лечебным и снимающим симптомы. Лечебным, так как оно предназначено для того, чтобы предложить (осознанно или бессознательно) другой ресурс работы с травмами, которые не переработаны, действовать внутри психики в качестве фактора, препятствующему развитию способности мыслить.
В работе о влечениях Грин (1998 [1986]) пишет «…если мы утверждаем, что влечения рассматриваются как базовые, фундаментальные сущности, которые первичны, мы вынуждены, однако, признать, что объект – первоисточник влечений» (71-72). Работа с влечениями остается задачей жизни, поэтому объекты будут отличаться, и первичные объекты не будут нести ответственность только за обнаружение и переработку влечений. Мы выбираем предпочтительные объекты в течение всей жизни, более или менее бессознательно. Среди выборов Квентина – кино и его зритель. В той же работе Грин (тот же источник, 1998 [1986]) связывает влечение к жизни с объективизацией функции, а влечение к смерти – с деобъективизацией функции. Первое наиболее активно, когда мы имеем дело с психическими процессами, связанными с вытеснением; второе наиболее активно, когда психические процессы полагаются на более широкое использование примитивных защит. Фильмы Тарантино предлагают нам пространство, таким образом отсылая нас туда, где можно построить что-то, что поможет работать со всеми деобъективизированными сущностями. Защиты, связанные с влечением к смерти, преобладают в его персонажах. Именно в жизни можно работать со смертью; в смерти ничего не остается.
Искусство, художественное отражение субъективизации того, кто создает его; безусловно, порадует одних и смутит других, объединяя комплексные процессы идентификации и проекции между автором и зрителем, с этой точки зрения искусство происходит от наиболее примитивных, сильных и пугающих чувств и ощущений его создателя.
Фильмография и биография, творчество и создатель. Так же, как персонаж/контекст смешивают и отличают уникальный смысл и торговый знак. Квентин и фильмы Тарантино запечатлены на уличных плакатах Лос-Анджелеса, во время Второй Мировой войны в Германии, в период рабства на Юге США. Мальчик и создатель фильмов, держась за руки, нашли другой путь; один поддерживает другого; один придает смысл и значимость другому. И они творят. И они создают. И позволяют нам также, время от времени, находить себя.
Возможно, именно потому, что Тарантино скитается по разным уровням психического функционирования в своих фильмах, он уникален. Сублимированные символы позволяют нам поддержать первертные сцены, сцены чистой разрядки, травмы. Мы бродим между Реальностью и Символами.
Детство Тарантино показывает нам ситуации, которые рассматриваться как факторы риска для эмоционального развития: мать подросткового возраста, которая осталась без поддержки отца ребенка, и среда, где границы между детством, юностью и зрелостью размыты. Однако, мы верим, что это не привело к значительному ущербу в развитии его символического потенциала и не помешало его способности к творчеству.
В значительной степени первичные отношения Квентина с его матерью, Конни, обеспечили ему довольно развитую способность обрабатывать эмоции и связывать их с реальностью: как создавать символы, которые могли бы передаваться через его любимую игру: фильмы. От этой первой встречи он мог бы иметь внутри себя сюжетную линию, в которой поддерживался бы водоворот импульсов, место, где он мог бы работать с самыми примитивными эмоциями, оставшимся эксцессом беспорядков всех времен, в амальгаме с чем-то настоящим с потребностями быть живым внутри себя сейчас.
Через сюжетную линию (потенциальное пространство) художник находит место, в котором то, что в избытке, сложно интегрируемое, можно связать. Мы думаем, что мальчик Квентин все еще нуждается в том, чтобы осознать бесчинства, которым он подвергся, и он использует взрослого, которым он стал, для этой цели. Мы могли бы назвать бесспорное наследие Тарантино для седьмого искусства лечебным и снимающим симптомы. Лечебным, так как оно предназначено для того, чтобы предложить (осознанно или бессознательно) другой ресурс работы с травмами, которые не переработаны, действовать внутри психики в качестве фактора, препятствующему развитию способности мыслить.
В работе о влечениях Грин (1998 [1986]) пишет «…если мы утверждаем, что влечения рассматриваются как базовые, фундаментальные сущности, которые первичны, мы вынуждены, однако, признать, что объект – первоисточник влечений» (71-72). Работа с влечениями остается задачей жизни, поэтому объекты будут отличаться, и первичные объекты не будут нести ответственность только за обнаружение и переработку влечений. Мы выбираем предпочтительные объекты в течение всей жизни, более или менее бессознательно. Среди выборов Квентина – кино и его зритель. В той же работе Грин (тот же источник, 1998 [1986]) связывает влечение к жизни с объективизацией функции, а влечение к смерти – с деобъективизацией функции. Первое наиболее активно, когда мы имеем дело с психическими процессами, связанными с вытеснением; второе наиболее активно, когда психические процессы полагаются на более широкое использование примитивных защит. Фильмы Тарантино предлагают нам пространство, таким образом отсылая нас туда, где можно построить что-то, что поможет работать со всеми деобъективизированными сущностями. Защиты, связанные с влечением к смерти, преобладают в его персонажах. Именно в жизни можно работать со смертью; в смерти ничего не остается.
Искусство, художественное отражение субъективизации того, кто создает его; безусловно, порадует одних и смутит других, объединяя комплексные процессы идентификации и проекции между автором и зрителем, с этой точки зрения искусство происходит от наиболее примитивных, сильных и пугающих чувств и ощущений его создателя.
Фильмография и биография, творчество и создатель. Так же, как персонаж/контекст смешивают и отличают уникальный смысл и торговый знак. Квентин и фильмы Тарантино запечатлены на уличных плакатах Лос-Анджелеса, во время Второй Мировой войны в Германии, в период рабства на Юге США. Мальчик и создатель фильмов, держась за руки, нашли другой путь; один поддерживает другого; один придает смысл и значимость другому. И они творят. И они создают. И позволяют нам также, время от времени, находить себя.